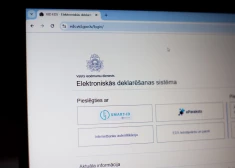Появление героя. За что любили поэта и эссеиста Льва Рубинштейна
Вчера в Москве прошло прощание с поэтом Львом Рубинштейном. Выдающийся литератор и эссеист, известный еще по советскому андеграунду, выступивший против войн в Чечне и Украине, поддерживавший ЛГБТ+ и не хотевший уезжать из России, он никогда не сторонился публичных и политических дискуссий, но оставался верен себе и своим принципам. Несмотря на пафосное звучание этих слов, он как раз делал это без пафоса. По просьбе «Новой газеты Европа» литературный критик Николай Александров вспоминает Льва Рубинштейна — и пишет о том, чем он был важен и почему мы его любили.
Довольно долгое время не знавшие Рубинштейна, но слышавшие, что есть такой поэт, чтобы уж точно удостовериться, о каком Рубинштейне идет речь, спрашивали: «Тот, который с карточками?» Впрочем, теперь без упоминания этого изобретения Льва Семеновича не обходится ни одна справочная статья о нем.
Я помню, как Лев Семенович волновался, когда «Издательство Ивана Лимбаха» предложило ему стихи на карточках выпустить обычной книжкой. Он боялся, что тогда тексты если и не потеряют смысл, то восприниматься будут иначе, пропадет собственно карточный эффект. Для него очень важно было, что стихи таким образом превращаются в особый объект, штучный предмет, принадлежащий автору. Что карточки берут, читают и откладывают. Он говорил, что в Германии их выпустили на немецком и русском в «первозданном виде». «Между прочим, — не без гордости добавлял он, — оказалось, отличное пособие для изучающих язык». Позднее так Рубинштейна издали и в России. В маленьких коробочках. Воспринимались они как упаковка визиток. Что, кстати, в каком-то смысле вполне оправданно.
Чтение карточек — представление, спектакль, они прежде всего подразумевают устное исполнение. Здесь текст неотделим от голоса автора, от его интонации, а слово подчеркнуто сопровождается действием. В частности потому, что слово само по себе действенно.
То, что Лев Рубинштейн артистичен и театрален, теперь понятно, наверное, всем. А его карточки — маленький театр своего рода. Что и реализовалось в сотрудничестве с театром «Тень» в постановке (наверное, так можно сказать) удивительной пьесы «Никого нет». В ней только имена, список действующих лиц с краткими характеристиками, но перед глазами слушателя-зрителя проходят целые эпохи и мертвые имена оживают. И одновременно это реквием, драма о тех, кто ушел. Сцена опустела, и никого нет.
Лев Семенович напрасно боялся. Жанр, который он оставил, уйдя в эссеистику (или, скорее, который растворился в других его текстах), сегодня очевидно живет второй жизнью. То, что раньше — может быть, из-за эффекта новизны, из-за недоуменных вопросов: «Поэзия ли это?» — казалось неясным, туманным, было не услышано, сейчас звучит отчетливее.
Отдельные реплики, обрывки разговора, фрагменты цитат или как бы цитат, речевой хаос, языковое смешение, голоса разных времен или звучащие в разных временах и пространствах голоса, коммунальная квартира, дом, двор, улица, школа, альбом фотографий, библиотечный каталог (из которого, собственно и родилась идея), — всё идет в ход. В этом кажущемся хаосе постепенно проступает продуманная структура, неслучайная организация текста, разворачивается действие, угадывается логика разбитого паузами движения:
1. Ну что я вам могу сказать?
2. Он что-то знает, но молчит.
3. Не знаю, может, ты и прав.
4. Он и полезней, и вкусней.
5. У первого вагона в семь.
6. Там дальше про ученика…
10 Послушай, что я написал…
32. А что там про ученика?
33. Я ж говорил тебе: не лезь!
34. Оставь меня — мне тяжело…
93. А где же про ученика?
94. Я этого не говорил.
95. Ученик пошел в школу. После того как он пришел в школу, он вошел в класс и сел за свою парту. Был урок рисования. Ученик стал рисовать в своем альбоме чашку. Учитель сказал, что рисунок неплохой, и он похвалил ученика за его рисунок. Потом прозвенел звонок, и ученики пошли на перемену. Ученик остался в классе один и стал думать.
(«Появление героя», 1986)
Язык (то есть слово во всех его проявлениях: речь, общение, разговор, письмо) не инструмент и даже не просто живой организм, а сущность жизненной материи, ее движения, развития. В нем всё — и история, и политика, и быт, и искусство. Язык — творящая сила, поэтому и слово действенно.
Другое дело, что слова могут стать мертвыми и нести в себе вовсе не созидание, а разрушение. Лишенные смысла общие понятия: «государственный интерес», «скрепы», «традиционная семья», лживые слова-маски, прикрывающие истинный смысл: «специальная военная операция», «нежелательная организация», — знаки разложения не просто речи и языка, а целых сфер жизни.
За «плохой» эстетикой, пошлостью, ложью, жлобством в литературе, искусстве, публичных выступлениях политиков и государственных деятелей, чиновников, обиженных и оскорбленных граждан стоит прямое покушение на личную свободу и личные права.
Человеческое и индивидуальное здесь исчезает, но громко заявляет о себе безликое государственное или режимное. Режиму отдельный единичный человек не интересен.
Об этом постоянно напоминал Рубинштейн, утверждая, что борьба с «вовлечением в бред», противостояние на «лингвистическом», словесном поле, может быть, самое главное и есть, потому что со слова всё и начинается.
В тексте, написанном для журнала «Эсквайр», Рубинштейн, перечисляя то, что он «помнит, но хотел бы забыть» (таков был редакционный заказ), называет песню «Мой адрес — Советский Союз». В ней действительно много всего замечательного, но показателен задорный припев: «Мой адрес не дом и не улица, / Мой адрес — Советский Союз». Человек некоему масштабному образованию приносит в жертву себя, свое вполне определенное пространство, растворяется в общей массе, аморфном целом. Мечта любого тоталитарного режима.
Вот этому и противостоял Лев Семенович в жизни и в творчестве, сливавшихся в единый художественный жест.
Рубинштейн был как раз связан с конкретными улицами, домами, квартирами, людьми. О них вспоминал и писал, обращаясь не к кому-то вообще, а к тем, кого знал, понимал и любил. Даже если не был с ними знаком лично.
А они любили его. И оказалось их очень много.
Хрупкий человек небольшого роста, в очках, московский концептуалист, маргинальный поэт «с карточками»… И тем не менее. Мало кто заслужил столько любви, как Лев Рубинштейн.
Это вселяет надежду.
Потому, в частности, что, по Рубинштейну, бодрость лучше уныния, застолье веселее чиновных собраний, чувство юмора и хорошая шутка сильнее кричащих лозунгов.
А любовь сильнее смерти.